Всё своими руками
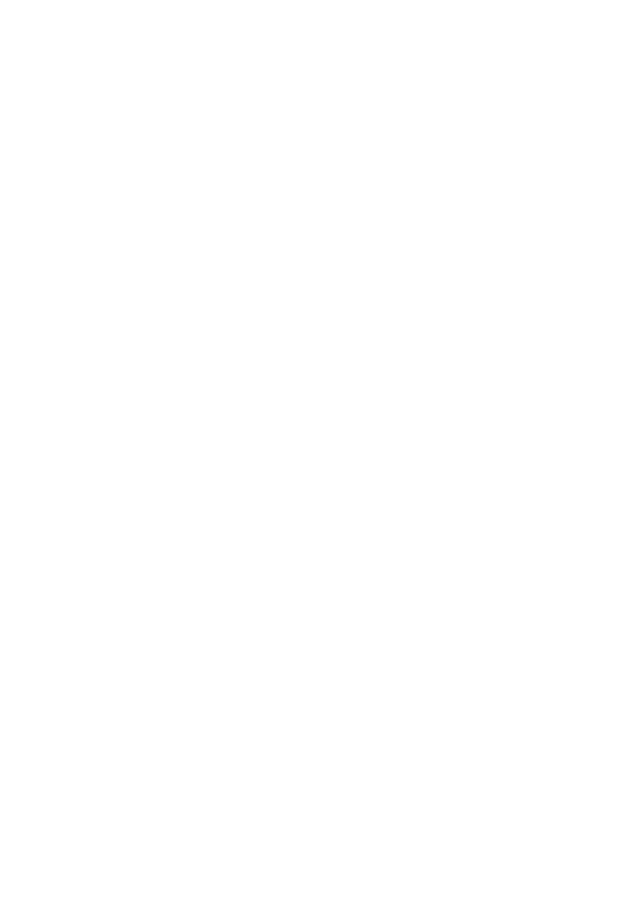
Музей Царицыно. Август-ноябрь 2022 г.
В музее Царицыно прошла моя кураторская выставка «Все своими руками». Это персональная выставкаВладимира Петрова и Натальи Полторацкой — старейших керамистов, практически классиков, чья творческая и личная история показана через их произведения. Владимир и Наталья — супруги, их семейному и творческому союзу уже 50 лет! Продолжая активно работать, преподавать, творческая пара является примером неутомимости и активной позиции художника, если он настоящий.
Петров и Полторацкая вырастили целое поколение керамистов с определенной творческой позицией и мировоззрением, несколько отличавшимся от официально принятого. Мне как куратору, было интересно показать пару художников, которая с одной стороны является единым целым, с другой — это союз совершенно разных авторов, с одной стороны Владимир и Наталья полностью отданы творчеству, с другой имеют прекрасную семью с правнуками, и это не мешало никогда их художественным занятиям. «Мы с мужем Владимиром Петровымначали совместные проекты в архитектуре в 70-е годы, создавали концепции и эскизы. Во время реализации скульптурной или живописной работы, каждый их нас брал на себя ту часть исполнения, которая подходила ему по силам и возможностям, старались уходить от казёных решений, высказать что-то личное.
В музее Царицыно прошла моя кураторская выставка «Все своими руками». Это персональная выставкаВладимира Петрова и Натальи Полторацкой — старейших керамистов, практически классиков, чья творческая и личная история показана через их произведения. Владимир и Наталья — супруги, их семейному и творческому союзу уже 50 лет! Продолжая активно работать, преподавать, творческая пара является примером неутомимости и активной позиции художника, если он настоящий.
Петров и Полторацкая вырастили целое поколение керамистов с определенной творческой позицией и мировоззрением, несколько отличавшимся от официально принятого. Мне как куратору, было интересно показать пару художников, которая с одной стороны является единым целым, с другой — это союз совершенно разных авторов, с одной стороны Владимир и Наталья полностью отданы творчеству, с другой имеют прекрасную семью с правнуками, и это не мешало никогда их художественным занятиям. «Мы с мужем Владимиром Петровымначали совместные проекты в архитектуре в 70-е годы, создавали концепции и эскизы. Во время реализации скульптурной или живописной работы, каждый их нас брал на себя ту часть исполнения, которая подходила ему по силам и возможностям, старались уходить от казёных решений, высказать что-то личное.
Выставки, симпозиумы, творческие вечера и поездки стали нашей повседневностью. А личная жизнь была крепко связана с творческой…"
Также, пара является универсальными авторами, умеющими если не все, то очень многое. Они занимаются керамикой всю свою жизнь и достигли в этом материале совершенства. Они занимаются графикой, и офортный станок стоит в их доме. Они делают инсталляции и хорошо разбирались в дровяных обжигах еще тогда, когда никто про них у нас не знал. Владимир пишет большие холсты и занимаются редчайшим скульптурным жанром — медалью. И все это удалось показать на выставке, выстроив ее как жизненный путь художников.
Будучи самостоятельнымии очень разными творческими личностями, супруги вместе сделали десятки монументальных работ в архитектуре в 70-х-90-е гг. в общественных интерьерах, в которых активно применялся синтез искусств, умение мыслить архитектурно, работать с заказчиком. К сожалению, сейчас от объектов ничего не осталось, практически все уничтожил «евроремонт». Именноумение широко мыслить и артистизм исполнения, сделало их керамику такой сложной, узнаваемой, опережающей свое время, сделало синтетическим искусством. Процессы перехода керамики «от вещи к искусству», от ремесла к арту как-раз и проходили во времена становления этих художников.
Петров и Полторацкая - члены Московского Союза Художников, участники десятков выставок и международных симпозиумов, что было непросто тогда в советское и постсоветское время. Имея с одной стороны известность в кругах официального искусства, они испытывали серьезный прессинг со стороны критиков, коллег и искусствоведов, призывавших керамистов «вернуться к горшку», не трогать «большие темы», принадлежавшие традиционно «большим» жанрам, таким как живопись и скульптура. Понятие «прикладник» не разрешало художникам, связавшим свои жизни с керамикой, выходить за границы дозволенного, требовало оставаться «мастерами своего гончарного дела» и не претендовать на место в искусстве, где все давно занято «старшими братьями» по цеху.
Таким образом, эта творческая пара художников совершила в свое время подлинную революцию в московскойкерамике параллельно с группой «Одна композиция» в Ленинграде. Нельзя не сказать, что данный статус серьезно осложнял их жизнь в сообществе на фоне традиционного и приглаженного искусства керамики того времени. Тем не менее, этот тандем проложил дорогу молодым, своим ученикам, которым было проще и понятнее чувствовать себя художниками в керамике после такого вдохновляющего примера.
Владимир Петров придумал и организовал первый в России керамический симпозиум в Рамони под Воронежом в 1990 году, проведя его со своими учениками, тогда еще студентами Строгановки и несколькимиблизкими по духу молодыми художниками. В команде симпозиума было 5 керамистов из Европы, что было впервые в практике керамической активности страны. Именно тогда, впервые же были построены дровяные печи для обжига керамики силами участников, что впоследствии изменило их творческую жизнь. Это была еще одна революция.
Супруги преподавали в Строгановке с 1988 по 1996 год, вырастив и впечатлив своим примеромцелую команду учеников, а главное, изменив парадигму понимания искусства керамики в Москве, дав пример подобной позиции многим художникам в других городах и бывших республиках
В программе подготовке керамистов живопись и графика занимали все 5−6 лет обучения. Выходящие из Строгановки студенты хорошо рисовали и писали, это было необходимо для развития художника, чембы он не занимался впоследствии. Умение видеть цвет и чувствовать форму, пропорции и масштаб развивались на этих занятиях. Несмотря на этот «рисовальный» багаж, далеко не все художники рисовали и писали серьезно в дальнейшей жизни. «Меня учили, что художник должен жить с карандашом в руке. Рисовать всегда и везде. Глаз должен собирать все яркие впечатления вокруг, которые потом станут произведениями. Рисунок — это образ жизни и образ мысли художника. Постоянное рисование — это необходимый тренинг, возможность всегда быть в форме, не ошибаться в пропорциях и линиях. Чаще всего я рисую тушью.» (В.Петров)
Наталья Полторацкая начинала свою художественную деятельность как график, освоила офорты и линогравюры, собиралась заниматься этим и дальше. Но кафедра керамики внесла свои коррективы. Графическая культура автора хорошо видна в ее серии пластов, где нарративность, выразительность линии, композиционное построение керамической плоскости являются прямой отсылкой к архитектуре чистого листа. Так они и помогают друг другу — керамика и графика.
Также, пара является универсальными авторами, умеющими если не все, то очень многое. Они занимаются керамикой всю свою жизнь и достигли в этом материале совершенства. Они занимаются графикой, и офортный станок стоит в их доме. Они делают инсталляции и хорошо разбирались в дровяных обжигах еще тогда, когда никто про них у нас не знал. Владимир пишет большие холсты и занимаются редчайшим скульптурным жанром — медалью. И все это удалось показать на выставке, выстроив ее как жизненный путь художников.
Будучи самостоятельнымии очень разными творческими личностями, супруги вместе сделали десятки монументальных работ в архитектуре в 70-х-90-е гг. в общественных интерьерах, в которых активно применялся синтез искусств, умение мыслить архитектурно, работать с заказчиком. К сожалению, сейчас от объектов ничего не осталось, практически все уничтожил «евроремонт». Именноумение широко мыслить и артистизм исполнения, сделало их керамику такой сложной, узнаваемой, опережающей свое время, сделало синтетическим искусством. Процессы перехода керамики «от вещи к искусству», от ремесла к арту как-раз и проходили во времена становления этих художников.
Петров и Полторацкая - члены Московского Союза Художников, участники десятков выставок и международных симпозиумов, что было непросто тогда в советское и постсоветское время. Имея с одной стороны известность в кругах официального искусства, они испытывали серьезный прессинг со стороны критиков, коллег и искусствоведов, призывавших керамистов «вернуться к горшку», не трогать «большие темы», принадлежавшие традиционно «большим» жанрам, таким как живопись и скульптура. Понятие «прикладник» не разрешало художникам, связавшим свои жизни с керамикой, выходить за границы дозволенного, требовало оставаться «мастерами своего гончарного дела» и не претендовать на место в искусстве, где все давно занято «старшими братьями» по цеху.
Таким образом, эта творческая пара художников совершила в свое время подлинную революцию в московскойкерамике параллельно с группой «Одна композиция» в Ленинграде. Нельзя не сказать, что данный статус серьезно осложнял их жизнь в сообществе на фоне традиционного и приглаженного искусства керамики того времени. Тем не менее, этот тандем проложил дорогу молодым, своим ученикам, которым было проще и понятнее чувствовать себя художниками в керамике после такого вдохновляющего примера.
Владимир Петров придумал и организовал первый в России керамический симпозиум в Рамони под Воронежом в 1990 году, проведя его со своими учениками, тогда еще студентами Строгановки и несколькимиблизкими по духу молодыми художниками. В команде симпозиума было 5 керамистов из Европы, что было впервые в практике керамической активности страны. Именно тогда, впервые же были построены дровяные печи для обжига керамики силами участников, что впоследствии изменило их творческую жизнь. Это была еще одна революция.
Супруги преподавали в Строгановке с 1988 по 1996 год, вырастив и впечатлив своим примеромцелую команду учеников, а главное, изменив парадигму понимания искусства керамики в Москве, дав пример подобной позиции многим художникам в других городах и бывших республиках
В программе подготовке керамистов живопись и графика занимали все 5−6 лет обучения. Выходящие из Строгановки студенты хорошо рисовали и писали, это было необходимо для развития художника, чембы он не занимался впоследствии. Умение видеть цвет и чувствовать форму, пропорции и масштаб развивались на этих занятиях. Несмотря на этот «рисовальный» багаж, далеко не все художники рисовали и писали серьезно в дальнейшей жизни. «Меня учили, что художник должен жить с карандашом в руке. Рисовать всегда и везде. Глаз должен собирать все яркие впечатления вокруг, которые потом станут произведениями. Рисунок — это образ жизни и образ мысли художника. Постоянное рисование — это необходимый тренинг, возможность всегда быть в форме, не ошибаться в пропорциях и линиях. Чаще всего я рисую тушью.» (В.Петров)
Наталья Полторацкая начинала свою художественную деятельность как график, освоила офорты и линогравюры, собиралась заниматься этим и дальше. Но кафедра керамики внесла свои коррективы. Графическая культура автора хорошо видна в ее серии пластов, где нарративность, выразительность линии, композиционное построение керамической плоскости являются прямой отсылкой к архитектуре чистого листа. Так они и помогают друг другу — керамика и графика.
Именно под влиянием пластов Полторацкой я задумала и уже 7 лет осуществляю свой проект Поверхности".
Полторацкая внесла значительный вклад в развитие «пласта» — керамического листа как-бы бумаги, плоскости, вбирающей в себя все выразительные средства станковых искусств. Есть там и цвет, и линия, и рельеф и фактуры и текстурами. А главное, такая керамика «не зачем», максимально свободна от функции, утилитарности, что опять сближает ее с «большими» собратьями по цеху. Место пласту на стене, рядом со станковыми живописью и графикой, это не плитка, не изразец больше, а самостоятельное произведение искусства. Полторацкая была первой в рядах керамистов, идущих к этой задаче. «Это моя игра в керамические картины, наполненые моими эмоциями, наблюдениями и переживаниями. Я хочу обернуться и увидеть свою жизнь в линиях и штрихах. «- говорит автор.
Медаль как самостоятельный жанр, начиная с монеты и памятного знака, стала искусством сравнительного недавно. И это состояние «моста и перехода» не могло не привлечь внимание Владимира Петрова. Как художник по фарфору, вначале он стал заниматься медалями из фарфора, перейдязатем на бронзу. Медаль, этот маленький кусочек выразительной плоскости со своими законами и техническими сложностями, привлекала художников, скульпторов своей способностью к особому выразительному высказыванию. Сегодня, это почти умирающий жанр из-за своей сложности, и возможность показать такую блестящую коллекцию медалей Петрова трудно переоценить.
Работе художника на производстве посвящен целый зал выставки. Это и фарфор, и фаянс и майолика. У каждого был свой «завод» в творческой биографии. Художник и завод, художник и потребитель — необходимые созидающие «нейронные связи» для керамиста. Владимир Петров после окончания Строгановкипочти 5 лет работал на фарфоровом заводе «Красный Пролетарий» под ВеликимНовгородом. Вся учебная программа Строгановки была подчинена идеи сотрудничества будущих студентов с производствами, коих было множество в СССР. Это фарфоровые, фаянсовые, майоликовые фабрики, маленькие и колоссальные. Фабрики делали как массовую посуду для народа миллионными тиражами, так и небольшие партии сувенирной эксклюзивной продукции. Для разработки эталонов необходим был художник. Художник проектировал форму, согласнотехническому заданию и технологическим возможностям завода, и декор, роспись этой формы. Художники были привилегированными и очень уважаемыми людьми на производствах, имели хорошую зарплату и библиотечный день, выдвигались своими производствами на союзные и международные выставки. Для художника тоже было большим счастьем видеть свои произведения на полках магазинов и на столах людей. Уход на производства снимал необходимость в мастерской и поиски материалов, у художников были неограниченные возможности для творческой деятельности. Очень многие выпускники уезжали на заводы после диплома на некоторое время, а потом возвращались в столицы уже зрелыми, все умеющими мастерами.
«Художник не имеет право работать в половину напряжения. Его творчество — это всегда работа на полный износ, иначе не будет результата.» — такая категоричность в словах Владимира Петрова является объяснением данной роскошной и очень высокохудожественной коллекции, которую мы показали. В последнем зале как-раз знаменитый работы авторы. Здесь и волк, и «Загнанная собака», и полосатый мобиль, и многие другие керамические скульптуры, многократно печатавшиеся. Социально-протестная, психологически надломленная керамика Петрова наделала много шума в конце 80-х, вызывая недоумение и возмущение тем, «что это не керамика». Его революционные формальные композиции и серии ню были «возмутительны», нопроложили дорогу к свободному самовыражению в глине следующим поколениям. Керамика Полторацкой, ее «неформальные» сосуды, оторванные, разлученные со своими предками — кувшинами и крынками, назначенными теперь стать «объектами», имеют тем не менее прочную уважительную связь с историческими аналогами, оставаясь до концаиндивидуальными и свободными.
Керамика Петрова и Полторацкой, свободная и независимая, проложила дорогу молодому актуальному искусству, и теперь уже никто не спрашивает, «почему это керамика», и «почему это не посуда?» Очевидно, что после Петрова и Полторацкой чувствовать себя «современным» художником в керамике было проще. Надеюсь, что эта выставка смогла показать те исторические переломы, которые происходили в искусстве, важность личности в художественном процессе и бесконечную любовь этой пару как к друг другу, так и к жизни и искусству.
Татьяна Пунанс
Полторацкая внесла значительный вклад в развитие «пласта» — керамического листа как-бы бумаги, плоскости, вбирающей в себя все выразительные средства станковых искусств. Есть там и цвет, и линия, и рельеф и фактуры и текстурами. А главное, такая керамика «не зачем», максимально свободна от функции, утилитарности, что опять сближает ее с «большими» собратьями по цеху. Место пласту на стене, рядом со станковыми живописью и графикой, это не плитка, не изразец больше, а самостоятельное произведение искусства. Полторацкая была первой в рядах керамистов, идущих к этой задаче. «Это моя игра в керамические картины, наполненые моими эмоциями, наблюдениями и переживаниями. Я хочу обернуться и увидеть свою жизнь в линиях и штрихах. «- говорит автор.
Медаль как самостоятельный жанр, начиная с монеты и памятного знака, стала искусством сравнительного недавно. И это состояние «моста и перехода» не могло не привлечь внимание Владимира Петрова. Как художник по фарфору, вначале он стал заниматься медалями из фарфора, перейдязатем на бронзу. Медаль, этот маленький кусочек выразительной плоскости со своими законами и техническими сложностями, привлекала художников, скульпторов своей способностью к особому выразительному высказыванию. Сегодня, это почти умирающий жанр из-за своей сложности, и возможность показать такую блестящую коллекцию медалей Петрова трудно переоценить.
Работе художника на производстве посвящен целый зал выставки. Это и фарфор, и фаянс и майолика. У каждого был свой «завод» в творческой биографии. Художник и завод, художник и потребитель — необходимые созидающие «нейронные связи» для керамиста. Владимир Петров после окончания Строгановкипочти 5 лет работал на фарфоровом заводе «Красный Пролетарий» под ВеликимНовгородом. Вся учебная программа Строгановки была подчинена идеи сотрудничества будущих студентов с производствами, коих было множество в СССР. Это фарфоровые, фаянсовые, майоликовые фабрики, маленькие и колоссальные. Фабрики делали как массовую посуду для народа миллионными тиражами, так и небольшие партии сувенирной эксклюзивной продукции. Для разработки эталонов необходим был художник. Художник проектировал форму, согласнотехническому заданию и технологическим возможностям завода, и декор, роспись этой формы. Художники были привилегированными и очень уважаемыми людьми на производствах, имели хорошую зарплату и библиотечный день, выдвигались своими производствами на союзные и международные выставки. Для художника тоже было большим счастьем видеть свои произведения на полках магазинов и на столах людей. Уход на производства снимал необходимость в мастерской и поиски материалов, у художников были неограниченные возможности для творческой деятельности. Очень многие выпускники уезжали на заводы после диплома на некоторое время, а потом возвращались в столицы уже зрелыми, все умеющими мастерами.
«Художник не имеет право работать в половину напряжения. Его творчество — это всегда работа на полный износ, иначе не будет результата.» — такая категоричность в словах Владимира Петрова является объяснением данной роскошной и очень высокохудожественной коллекции, которую мы показали. В последнем зале как-раз знаменитый работы авторы. Здесь и волк, и «Загнанная собака», и полосатый мобиль, и многие другие керамические скульптуры, многократно печатавшиеся. Социально-протестная, психологически надломленная керамика Петрова наделала много шума в конце 80-х, вызывая недоумение и возмущение тем, «что это не керамика». Его революционные формальные композиции и серии ню были «возмутительны», нопроложили дорогу к свободному самовыражению в глине следующим поколениям. Керамика Полторацкой, ее «неформальные» сосуды, оторванные, разлученные со своими предками — кувшинами и крынками, назначенными теперь стать «объектами», имеют тем не менее прочную уважительную связь с историческими аналогами, оставаясь до концаиндивидуальными и свободными.
Керамика Петрова и Полторацкой, свободная и независимая, проложила дорогу молодому актуальному искусству, и теперь уже никто не спрашивает, «почему это керамика», и «почему это не посуда?» Очевидно, что после Петрова и Полторацкой чувствовать себя «современным» художником в керамике было проще. Надеюсь, что эта выставка смогла показать те исторические переломы, которые происходили в искусстве, важность личности в художественном процессе и бесконечную любовь этой пару как к друг другу, так и к жизни и искусству.
Татьяна Пунанс


